В поисках калмыцкой кибитки

Сейчас, в 1980 году, на всей территории Калмыкии, в ее степях и на берегах озер, на барханах Черных земель и побережье Каспия отыскать старую добрую кибитку почти невозможно. Переход к оседлому образу жизни, начавшийся еще в прошлом веке, постепенно уничтожил мир кочевого быта с его привычками и обрядами, одеждой и жилищем. До нынешних дней дошло немногое, и, чтобы отыскать сохранившиеся приметы кочевья, надо самому превратиться в кочевника и неторопливо пересечь вдоль и поперек землю, равную по размерам среднему европейскому государству. И когда обострится слух и станет по-степному зорким взгляд, тогда с резким свистящим ветром донесутся до тебя звуки протяжных песен…

Путь кибитки, шаг коня — все становилось песней, и песня становилась мерилом. Сейчас, естественно, пространство воспринимается иначе, исчисляемое привычным течением километров. Но протяжные песни возвращают порой то состояние, в котором нет другой жизни, кроме дороги, и другого крова, кроме кибитки кочевника. Такой была «Песня о серой лошади», которую я услышала на севере Калмыкии, в Городовикове, от Татьяны Петровны Елешевой.
Пела старая русская женщина, прожившая всю жизнь в Калмыкии, и велико было, очевидно, воздействие этой самобытной культуры, если ее песня действительно мерила расстояния и каждый ее звук возрождал ощущение прожитой дороги. Она пела, словно выйдя на порог кибитки и окидывая, как взглядом, голосом окружающий мир. Голос поднимался орлиным взмахом и долго держался на одной ноте, протяжной и томительной, как бесконечная дорога. Почти нет переходов, модуляций — это не просто пение, это удивительное слияние слуха и голоса со зрением, не находящим высот и ложбин, плавно скользящим к отдаленной ровной линии горизонта…
Песня эта, несущая с собой целый мир вековых кочевий, продолжала звучать в моих поездках по Калмыкии, как проводник в поисках кибитки. Образ кибитки живет, даже когда исчезает само жилище. Его можно уловить в праздниках, он связан с плетью в руках всадника, с упряжью для коня и с тем, как запрягают верблюда в телегу. Дробные части этого образа, как детали кибитки, разбросаны по пространствам степи.
В поисках кибитки, как в поисках утраченного времени, растекаются дороги на юго-запад, на запад, на север, на восток… Мой путь лежит на север — к тем местам, где, по мнению некоторых ученых, когда-то находилось русло Волги, отразившееся сегодня в зеркалах Сарпинских озер. Еще до революции существовал водный путь по этой озерной системе, и не кажется невероятным предположение, что именно здесь, на Сарпе, стояла столица Хазарского каганата. В Калмыкии трудно забыть об истории: но и эта память — память пути. Путь воинов Святослава, шедших к победе над хазарами, проложен тоже здесь. Следы перемещений войск и народов — по ним ступают кони нынешней Калмыкии, для которых мастерит сбрую Саранг Буватинович Копнеков, живущий в Цаган-Нуре, на Сарпинских озерах.
Сёдла и поводья, сделанные руками старого табунщика, хранят законы кочевья, хранят запах кибитки и шелест тонких кожаных ремней, которыми скреплялись «терме» — решетки кибитки. И законы ремесла остаются теми же, и так же разрезается кожа крупного животного на три больших полосы, из которых обычно делают семь ремней, уже потом превращая их в «хазар» — уздечки, «ногто» — недоуздки, «жола» — поводья… Вслушайтесь в звучания «хазарин», «хазар», особенно когда звучат они в тех местах, где могла находиться хазарская столица, — и прозрачной станет связь истории человеческих скитаний, битв и походов с народной культурой. Эпос преодоления пространства запечатлен в коже, выделанной руками Копнекова.
И пожалуй, только об одном жалеет семидесятилетний мастер, всю жизнь свою проведший возле лошадей и на Дону, и в Калмыкии, что не может сегодня украсить сбрую традиционными металлическими бляшками, придававшими когда-то такое мужественное своеобразие фигуре калмыцкого всадника. Сейчас разве что в музее увидишь тяжелые кожаные, украшенные серебром мужские пояса, которые перекликались с украшением лошадиной сбруи. Без этого строгого блеска трудно представить себе конника в степи, как и без старинной плети — «маля», оружия охоты и укрощения.
Как делают эти плети, мне показывал другой мастер — народный поэт Калмыкии Константин Эрендженович Эрендженов. И тут выяснились любопытные подробности. Рассказывают, дерево, из которого изготовляют рукоятку лучших маля — сандал, — может отпугивать вредных насекомых. А шерсть овечьих шкур, из которых вырезаются ремни для плети, спасает от укусов скорпиона…
Что же касается изготовления маля для охоты на волка, то это предмет особого разговора. Такая плеть имеет четырехгранную форму, и плетут её по-особенному — «ёлочкой». С этой плетью калмыцкий охотник скакал по степи за волком, пока тот не обессилевал и не падал.
Всадник соскакивал с коня и шёл навстречу хищнику. Когда их разделяло несколько шагов, волк бросался на человека — и в этот момент плеть должна была рассечь воздух, перебить зверю нос… Уже позже, где-то в дороге, мне рассказали о более безопасном способе охоты, когда волка доставали плетью, не слезая с коня. Но в любом случае качество владения этим холодным оружием было доведено до совершенства…
Кожу на такую плеть берут с трёхлетней овцы. Её замачивают на несколько суток в кадке, где до этого бродило кислое молоко. Очищенную от шерсти и грязи кожу сушат в холодном месте, потом режут на ремни. Чтобы полоски её были ровными, их пропускают через специальный деревянный брус с выемкой посредине, где лишнее срезается. Эрендженов заметил, что для такой плети берут только размягченную кожу, предварительно выбитую специальными колотушками. Для придания достаточной мягкости необходимо от тысячи до полутора тысяч ударов…
В квартире Константина Эрендженова плети висели на стене, но их количество было обманчивым — вполне возможно, что перед моими глазами в тот момент находились все современные маля, существующие в Калмыкии. А когда-то у каждого всадника, каждого обитателя кибитки была своя маля… Пел всадник, разглядывая верную плеть:
Так сжимала нагайку рука,
Что выступил из нагайки сок.
Из шкуры трехлетнего быка
Сердцевина ее сплетена…
Эти слова из калмыцкого национального эпоса «Джангар», который рассказывает о победах и странствиях богатырей. Эпос «Джангар» складывался веками и дошел до нас почти неизменным.
Искусство джангарчи, народных сказителей, требовало хороших учителей. «Джангар» не повторяют слово в слово — его переживают заново каждый раз, с новыми подробностями, обогащая тем самым древнюю форму эпического сказания. Высокий, седоусый, с быстрыми темными глазами, джангарчи Леонтий Васильевич Адудов родился в 1908 году и еще помнил легендарных мастеров этого жанра устного народного творчества. Никто не может рассказать весь эпос — объем его громаден, вариации бесконечны.
На это не хватит ни времени слушателя, ни жизни сказителя. Мой собеседник был настоящим джангарчи, он буквально растворялся в ритме сказания…
Сам процесс исполнения одной песни из эпоса длится более одного часа. Леонтий Васильевич поет о приключениях самого Джангара и о подвигах богатыря Савра тяжелорукого, о том, как были уведены табуны красавцев коней от их грозных хозяев в страну счастья — Бумбу, о поединках богатырей…
Каждая новая строфа — это перепад времени, возвращение к миру кочевий и кибиток. Удивительно слуху, привыкшему к распеву былины или мерной строфике «Калевалы», воспринимать речитатив «Джангара», где меняются интонации, скороговорка переламывается набежавшей мелодией, где странная система рифм и созвучий. Это стихи, которые можно исполнять в дороге и на пороге кибитки, во время стоянки.
Я слушала их на ходу — мы шли с джангарчи по улице районного центра, весенняя распутица сбивала шаг, но бодро идущий Леонтий Васильевич по пути импровизировал подвиги Джангара, богатыря, властителя волшебной страны Бумбы.
Потом мы разговаривали в степи, где строфы эпоса словно обретали эхо, разносясь поднявшимся ветром…
Но «Джангар», я знала, надо слушать не так. Когда окончится путь и на легкие решетки ляжет войлок, когда распрягут коней и сквозь отверстия в крышах кибиток поднимется теплый дым еды и человеческого жилья, тогда посредине круга, образованного кибитками, соберутся вокруг сказителя взрослые и дети и будут переживать вместе с джангарчи приключения героев. Или должен быть праздник — из тех праздников, которыми входило время вращения Земли в жизнь древних скотоводческих племен, отмечая пору нового цикла в течении кочевья. Тогда бы боролись богатыри, догоняли друг друга всадники, состязалась в играх молодежь — и состязались в лучшем исполнении эпоса джангарчи из разных улусов, собравшиеся в тени кибитки…
«Джангар» ещё можно услышать и сегодня — национальные эпические сказания никогда не умирают в народе, даже будучи воплощены на бумаге. Но совершенно своеобразное произведение устного народного творчества Калмыкии — «яс кемэлгын», состязание в красноречии на 25-м позвонке овцы, — услышать сейчас довольно трудно. Само создание этой полуигры, полусерьезного состязания определялось пространством степей. Старики рассказывали мне: жили два друга — море тогда было лужицей, а сандаловое дерево — кустом; и разделяло друзей расстояние «от ергеневской балки до Каспия»… Встречаясь, они словно делились всем, что видели в пути. Поэтому и нужен был именно 25-й овечий позвонок, тот, что у хвоста, — своеобразие его формы наталкивало на самые свободные ассоциации. Играющие переворачивали позвонок в строгой последовательности, и каждая грань давала новый поворот образа степи. В десять вопросов, которые задавали друг другу соревнующиеся, должен был войти весь мир, окружавший калмыка в кочевье, — представление о хорошей жене, о крыле беркута, верном коне, природе степи и кибитке. Условно говоря, это соревнование определялось одним вопросом: «Что на что похоже?», но любой ответ был связан с той жизнью, образом и символом которой давно стала кочевая кибитка.
Слушать яс кемялгын не просто интересно, но и заразительно. Потом ловишь себя на поисках сходства с 25-м овечьим позвонком дальнего холма или силуэта лошади и, спохватываясь, жалеешь об отсутствии этой игры в своей дороге. Раньше состязания яс кемелгын происходили на свадьбах между двумя самыми красноречивыми со стороны жениха и невесты, и проигравший мог расплатиться целым табуном — так высоко ценилось калмыками умение передать тот мир, который их окружал.
В «Джангаре», как и в соревновании на овечьем позвонке, поражает емкость слова, впитавшего в себя без преувеличения всю степь. Поэтому трудно вне Калмыкии понять значение сказаний и других жанров устного народного творчества, как трудно оценить ремесло старого мастера в Цаган-Нуре, не видя степи, по которой бродят табуны коней…
Привязанность человека не просто к своему крову, но ко всему, что входит в видимый и слышимый мир, сформировала понимание кочевой кибитки, которая для калмыка вбирала в себя все окружающее и сама становилась органической частью простора. Кибиткой были ковыль и пастушья сумка, орел и сайгак, конь и верблюд, небо и земля. В вечном движении рождалось своеобразное, с элементами театра и фантастики, народное творчество, о котором Гоголь писал: «Калмык способен верить чудесному и охотник до сказок… Рассказчики водятся мастера своего дела и сопровождают, где следует, пением, музыкой, телодвижением, где нужно — подражанием голосу животных».
Жизнь обитателей степи органично входила в быт и искусство калмыков. В «Джангаре» упоминается облава на сайгаков, которую проводили охотники на конях. На восток от Элисты, в государственном заказнике «Степной», я видела новорожденных сайгачат. Крохотные детёныши реликтовых животных, современников мамонтов, лежали в траве на Черных землях, где раньше зимой на просторах бесснежных пастбищ ставились кибитки со всей Калмыкии. Теперь там не ставят их ни зимой, ни весной — но весной лировидные глаза сайгачат здесь в первый раз видят степь, гнездо жаворонка в траве и высоко в небе черного коршуна, кружащего над Черными землями. Недалеко от исчезающих в мареве степи стад сайгаков, на Ялмтинских лиманах и Камышовых озерах, взлетают крупные лебеди; стоят или бродят, брезгливо поднимая длинные ноги и поглядывая сверху вниз, цапли; важною походкой прохаживаются журавли-красавки… Идея движения одушевляет все живое, и даже новорожденный сайгак, с еще мокрой шерсткой, через два часа после своего появления на свет вскакивает на тонких ногах и мчится по барханам. Идея движения вложена в эпос битв и странствий и в свист плети, рассекающей воздух. Идея движения создала танец «чичердык» — танец тряски, всадника, дороги, кибитки.
Еще в 1834 году писал путешественник о чичирдыке: «Пляска калмыков состоит не только в движении ног и рук, но, можно сказать, всех мускулов, потрясаемых каждым звуком музыки, словно электрическою силою». Я видела, как танцевали чичирдыг мастера из ансамбля народного творчества в Городовикове, и танец этот тоже был кибиткой. Движения рук словно восстанавливали дрожь жердей — «унйнов», которые в пути, в повозке сталкивались друг с другом. Память кочевья жила в каждом жесте, в каждом повороте танца.
В узоры расшитых «цегдегов» — верхней женской одежды — равномерными волнами вливается степь. Ломаная линия очерчивает контур кибитки. «Ночью шила, без очков, как мать моя шила, — рассказывала Деляш Учуровна Улядурова, глава танцевального ансамбля, — днем работаешь, ночью вышиваешь. Ничего. Без такой одежды нельзя. И себе сделала, и подругам сделала. Вижу, может, уже и не так, а память есть… Потом в Москву приехали — всем нравилось…»
Калмыцкая вышивка нарядна. Красный цвет означает радость, белый — чистоту и невинность, голубой — небо, вечность, любовь, желтый — праведность; и в противовес этому насыщенному сиянию возникает черный, как бы подчеркивая яркость общего впечатления.
Нашитые блестки слагаются в узор на темных шапочках — «тамшах», отражаясь в сиянии темных узких глаз на смуглых лицах. «Конечно, не молодые мы, — говорила Деляш Учуровна Улядурова, пока, запыхавшись, отдыхали от танца ее пожилые коллеги. — Только как бы там сердце не болело, дома сидеть плохо… Пока ноги ходят — буду сюда ходить». Вечная неусидчивость, как какая-то дополнительная молекула в крови, была в этом ответе.
Народное искусство — это, безусловно, передача традиции от поколения к поколению. На детях словно проверяется истинность традиции, и естественность восприятия и исполнения старой песни, танца — еще один показатель того, как важно сохранить культуру народа, культуру кибитки, сложившуюся в процессе преодоления пространства. Движение в пространстве, измерение своей жизни с помощью «дуна газр» — и сейчас основа понимания особенностей этой страны, где на один квадратный километр в среднем приходится 2,5 человека.
В полынной степи в Ульдючинах, что на полпути от Элисты к Городовиковску, танцевали чичирдыг школьники. Они исполняли и старинные свадебные пляски, и танец чаш, который в своей завершенной чистоте движений стал для меня символом гостеприимства калмыцкого народа. Все же есть какая-то древняя и прочная связь между тем, как жил народ, и как танцевал…

В Ульдючинах мне сорвали белый неприметный цветок — «тахья тырц» — «белая душа». Он был так же трудно различим в травах, этот свет души степи, как труднонаходимы были на просторах Калмыкии люди, хранящие в себе память кибитки. Поэты и табунщики, мастера обработки кожи и певцы, танцоры и джангарчи — кажется, так много! Но надо было исколесить почти всю страну, чтобы из разных встреч сложился древний облик кибитки, вобравший в себя многовековую культуру народа. И каждая остановка в пути была встречей под шатром утерянного жилища. Словно след кочевых стоянок навечно впечатался в почву степи, где рождается все живое — от сайгака до поэтического слова.
Инна Клемент, Рубрика «О странах и народах»
Журнал «Вокруг света»,
№12 (2483) декабрь 1980 год
Примечание 2009 года: теперь купить маля можно в магазинах города Элиста.


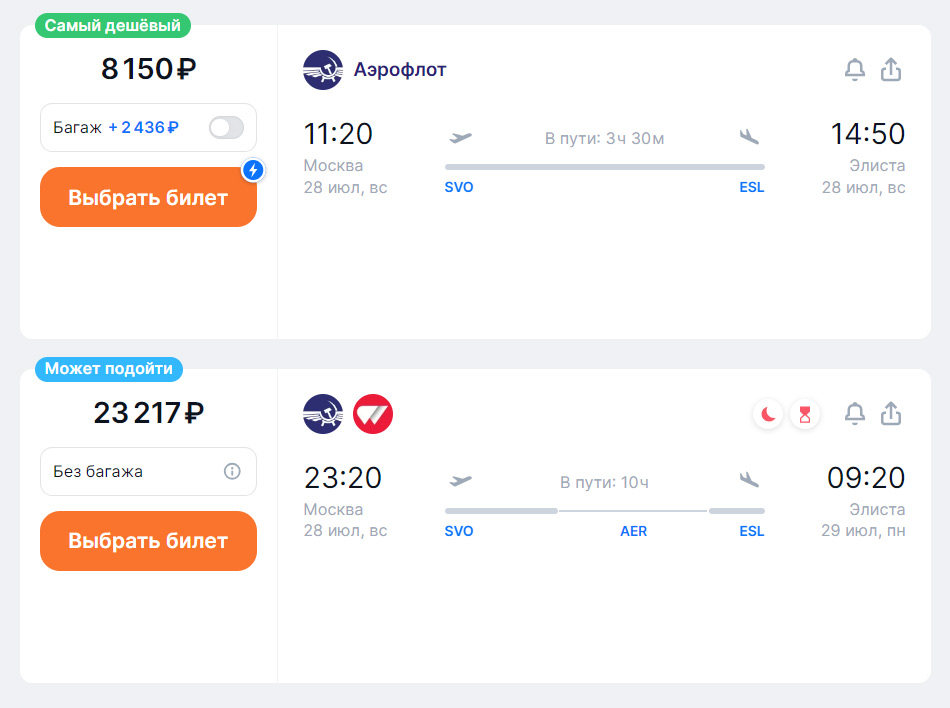





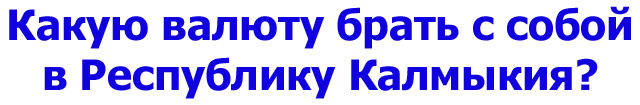





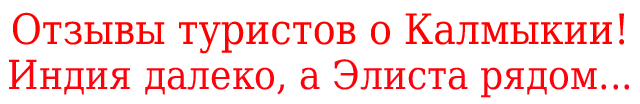
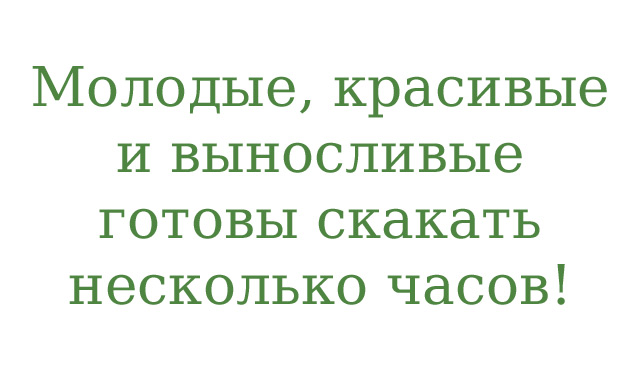

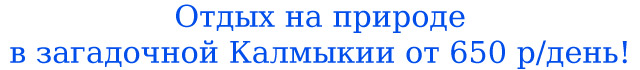


























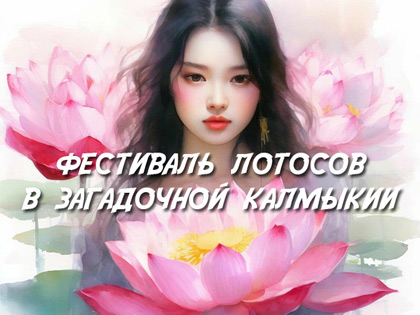











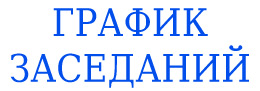

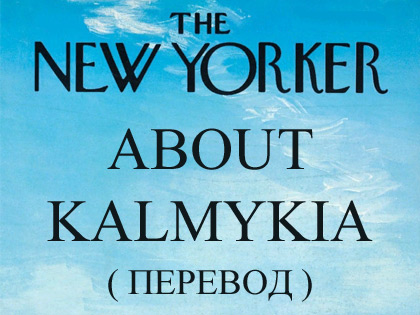


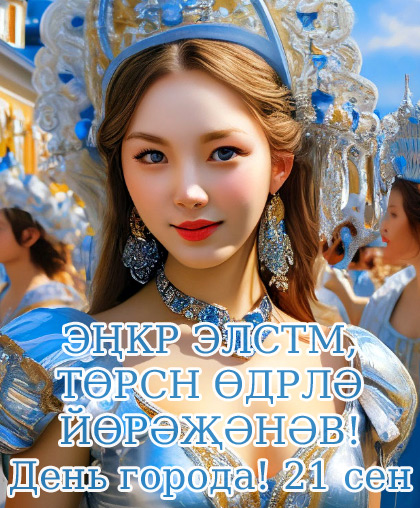
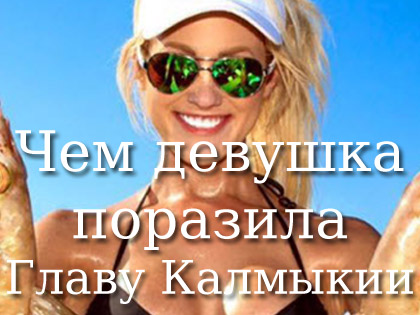

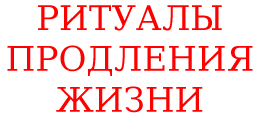


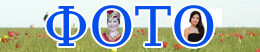


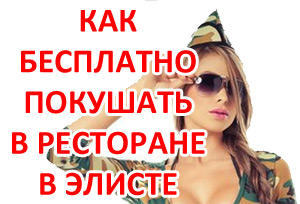









знакомый рассказал что лечил спину у одного дедушки-мануальщика из элисты, тот его поставил на ноги за один сеанс, ни имени этого талантливого человека ни адреса знакомый не знает попал на прием случайно, может Вы владеете информацией, вряд ли такой специалист малоизвестен